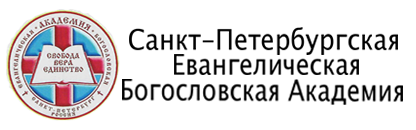«Âpáqeia» Бога и христианская этика | Алексей Власихин
Одной из важнейших тем систематического богословия является вопрос о характере или атрибутах Бога, потому что главной задачей человеческой жизни является обретение правильного положения пред Богом. Для этого нам, конечно, необходимо знать каков же Бог, каким образом возможно найти с Ним общение.
«Âpáqeia» Бога и христианская этика
Одной из важнейших тем систематического богословия является вопрос о характере или атрибутах Бога, потому что главной задачей человеческой жизни является обретение правильного положения пред Богом. Для этого нам, конечно, необходимо знать каков же Бог, каким образом возможно найти с Ним общение. Здесь действует тот же принцип, что и в человеческих взаимоотношениях: чтобы отношения с другим человеком развивались, необходимо больше узнавать его. В последнее время в различных христианских кругах все настойчивее подчеркивается важность личной молитвенной жизни, необходимость опытного богообщения и богопознания. Характер подобной духовной жизни во многом зависит от того образа Бога, который существует в нашем сознании. Очевидно, что если мы представляем Бога «часовщиком» творения, как в философии деизма, то есть мастером, наладившим механизм мироздания и теперь взирающим на него со стороны, то может быть поставлена под сомнение вообще необходимость и актуальность молитвы. Если же мы верим в Бога, Который активно вовлечен в судьбу Своего творения и отвечает на наши просьбы, то наша молитвенная жизнь будет интенсивной. Важно осознавать, что образ Бога в нашем сознании складывается под воздействием множества факторов. На него влияет, конечно, наш личный опыт, как жизненный, так и молитвенный. На него влияет учение той церкви, в которой мы уверовали и которой принадлежим. На него влияют культурные стереотипы, существующие в обществе. И мы, как евангельские христиане, желаем, чтобы решающее воздействие на наше представление о Боге оказывало свидетельство Священного Писания. Итак, мы видим, что образ Бога в нашем сознании формируется не только под непосредственным влиянием Бога, но и под действием множества осознанных или неосознанных факторов. Так как не все из этих влияний могут быть полезными, задача верующего человека состоит в том, чтобы сделать представление о Боге как можно более осмысленным. Задача эта становится вдвойне важной в связи с тем, что представление о Боге в значительной мере определяет образ жизни христианина, потому что мы «взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ» (2 Кор. 3:18).
В данной статье будет предпринято исследование взаимосвязи образа Бога и христианской этики на примере учения об Âpáqeia (греч. «бесстрастии») Бога: насколько принятие или отрицание данного атрибута в Боге оказывало влияние на христианское понятие благочестия.
Представление об Âpáqeia Бога в святоотеческом богословии и средневековой схоластике
Средством выражения христианского богословия святоотеческого периода был язык греко-римской философии, в особенности платонизма. Античная философия не только предоставляла раннехристианским мыслителям терминологический аппарат, она влияла и на общие мировоззренческие концепции и представления[1]. Сказанное справедливо и относительно важнейшего раздела христианского богословия – учения о Боге. Известный специалист по патристике Ярослав Пеликан среди наиболее очевидных примеров влияния греческой философии на христианское учение указывает на доктрину о неизменности и бесстрастии Бога[2].
В греческой философии учение о бесстрастии (Âpáqeia) божества связано прежде всего с идеей совершенства. Совершенное не нуждается в изменении и не может быть изменено (иначе оно не было совершенным). Божественный Абсолют пребывает неподвижен, не будучи подвержен каким-либо внешним воздействиям, сам являясь всему Источником и Причиной движения[3]. Понятие же «страсть» (páqoV) подразумевает либо страдание, недуг, либо эмоции, переживания, чувства[4]. Оба значения, таким образом, не применимы к Абсолюту, так как указывают на изменение, движение.
Тексты, указывающие на неизменность Бога, мы находим и в Священном Писании. В Пс. 101 псалмопевец сравнивает Бога с небесами и землей: «Они погибнут, а Ты пребудешь... Ты переменишь их, и изменятся; но Ты - тот же, и лета Твои не кончатся» (Пс. 101:27-28). В Пс. 32:11 подчеркивается постоянство Божьих мыслей: «Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его - в род и род». Сам Бог говорит: «Я - Господь, Я не изменяюсь» (Мал. 3:6). Иаков пишет, что у Бога «нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). При этом следует отметить, что речь в данных отрывках идет не о некой абстрактной «природе божественного», а о верности Бога Своему народу, о Его постоянстве в любви и милости. Бог неизменен в Своем стремлении оберегать и спасать Свой народ.
Однако ранние отцы церкви, будучи сами представителями эллинистической культуры, увидели в библейских свидетельствах о неизменности Бога знакомые для себя представления о неизменном и бесстрастном Абсолюте. Христианские богословы обычно принимали доктрину о бесстрастии Божьем как аксиому, не заботясь о привлечении библейских или богословских подтверждений[5]. Климент Александрийский упоминает бесстрастие как одно из качеств Бога, которому христиане должны подражать[6]. Другой александриец – Ориген в первом опыте христианского систематического богословия «О началах» пишет, что «Бога должно мыслить совершенно бесстрастным и чуждым волнений», а те отрывки в Писании, где Богу приписываются раскаяние, гнев или какие-либо другие чувства следует толковать как новозаветные притчи[7]. Раннехристианский автор Григорий Чудотворец посвятил бесстрастию Божию целое произведение - «О возможности и невозможности страданий для Бога». Григорий утверждает, что Бог не может по Своей природе терпеть вред от страданий, испытывать болезненные ощущения и подвергаться какому-либо насилию[8]. Наверное, наиболее последовательно из святоотеческих авторов стремление приписать Богу присущие человеку (и вообще тварному миру) свойства отвергает влиятельный христианский мыслитель предположительно V – VI вв., Дионисий Ареопагит. Его формулировки стали классическими для последующих богословов. В трактате «О мистическом богословии» он пишет: «Причина всего [Бог], будучи выше всего, и несущностна, и нежизненна, не бессловесна, не лишена ума и не есть тело; не имеет ни образа, ни вида, ни качества, или количества, или величины; на каком-то месте не пребывает, невидима, чувственного осязания не имеет; не воспринимает и воспринимаемой не является; Ей не свойственны беспорядок, смута и беспокойство, возбуждаемые страстями материи; Она не бессильна как неподверженная чувственным болезням, не имеет недостатка в свете; ни изменения, ни тления, ни разделения, ни лишения, ни излияния не претерпевает, и ничего другого из чувственного Она не представляет Собой и не имеет»[9]. И уже в VIII в. в обобщающем и систематизирующем труде с говорящим названием «Точное изложение православной веры» Иоанн Дамаскин пишет, что природа Бога бесстрастна и независима[10].
Важно отметить, что доктрина о бесстрастии и абсолютности Божьей использовалась в качестве предпосылки в триадологических и христологических спорах[11]. Поэтому одним из труднейших вопросов для раннехристианских мыслителей был вопрос о том, как абсолютный, неизменный, бесстрастный Бог мог пострадать и быть распятым. Отвечая на этот вопрос святоотеческое богословие использовало, условно говоря, два подхода. Один из них можно назвать «скрытым докетизмом». Согласно данной позиции, страдания Христа были видимыми, а не действительными, то есть Он делал вид, что алкал, жаждал, испытывал боль – ради нас, дабы быть понятней и доступней нам. Сам же Христос был внутренне свободен от этого. Как пишет уже упоминавшийся нами Григорий Чудотворец, Христос, «принимая на Себя человеческие страдания, не претерпевал болезненных ощущений, проистекающих из человеческих страданий»[12], при этом «страх и трепет не овладевали Им»[13]. Второй подход состоял в том, чтобы боль, страдания, смерть относить к человеческой природе Христа, а чудеса – к божественной. Данная позиция получила большее распространение среди отцов церкви[14]. Замечательно четко ее выразил Григорий Назианзин. Говоря о соотношении и взаимосвязи божественной и человеческой природ во Христе, он полагает следующий принцип: «речения более возвышенные относи к Божеству и к природе, которая выше страданий и тела, а речения более унизительные – к Тому, Кто Сложен, за тебя истощил Себя и воплотился, а не хуже сказать, и вочеловечился, потом же превознесен, чтоб ты, истребив в догматах своих все плотское и пресмыкающееся по земле, научился быть возвышеннее и восходить умом к Божеству, а не останавливаться на видимом, возносился к мысленному и знал, где речь о естестве Божием и где об Его домостроительстве»[15]. Естественно, подобное разделение было особенно свойственно христологии антиохийской школы (Феодор Мопсуестийский, Феодорит Кирский и др.), подчеркивающей полноту человеческой природы Христа. Однако удивительно, что главный противник антиохийцев – Кирилл Александрийский высказывает схожие суждения. Выработанное во время христологических споров понятие об «общении свойств» (Îdiwmátwn koinwnía (греч.) или communicatio idiomatum (лат.)) во Христе позволяло Кириллу относить и божественные, и человеческие характеристики к единой ипостаси воплощенного Слова. Известный исследователь святоотеческой христологии Иоанн Мейендорф даже утверждает, что ключевым элементом «сотериологической интуиции» Кирилла Александрийского был теопасхизм (т.е. утверждение о том, что Бог пострадал на кресте)[16]. При этом александрийский богослов называет «крайней глупостью» слова о том, что «природа Слова» могла пострадать, ибо «божество всецело бесстрастно»[17]. Обобщая святоотеческую традицию, Иоанн Дамаскин пишет, что во Христе, несмотря на единую ипостась Бога-Слова, сохраняется различие природных свойств, ибо «смертное осталось смертным и бессмертное – бессмертным; описуемое – описуемым; неописуемое – неописуемым; видимое – видимым и невидимое – невидимым; одно блистает чудесами, другое подпало под оскорбления»[18]. По причине единой ипостаси и «общения свойств» мы можем сказать, что был распят Господь славы, и Бог пострадал плотью, но не можем сказать, что божество пострадало плотью или, что Бог пострадал через посредство плоти[19]. «Ибо, если, в то время как солнце освещает дерево, топор рубит это дерево, то солнце остается неразрезанным и неподверженным страданию; следовательно, гораздо более бесстрастное божество Слова, ипостасно соединившееся с плотью, остается неподверженным страданию, в то время как страдает плоть»[20].
Таким образом, даже учение о боговоплощении и исповедание смерти Сына Божия на кресте не заставили отцов церкви оставить аксиому о бесстрастии Бога. Сложные риторические приемы все равно оставляют ощущение непричастности Бога к нашим страданиям или по-докетистски только кажущейся причастности[21].
Подобный взгляд на природу Бога сохранился и у западноевропейских схоластов. Отвечая на вопрос о том, как в Боге сочетаются милосердие и бесстрастие, известный средневековый богослов Ансельм Кентерберийский приходит к заключению, что первое качество следует относить к тому, как Бог осмысливается в нашем опыте, а второе характеризует Его «самого по себе»[22]. В своем учении об искуплении Ансельм также использует утверждение о том, что «Божественная природа несомненно бесстрастна, ни в малейшей степени не способна ни спуститься с высоты Своего величия, ни претерпевать страдания в том, что хочет совершить»[23]. Другой величайший средневековый схоласт Фома Аквинский в знаменитом труде «Сумма теологии» прямо утверждает, что «печалиться о горестях других – это не Богово»[24]. Мы приписываем Богу милосердие, потому так переживаем Его проявления, но природе Бога чувства не присущи[25].
Таким образом, практически все христианские богословы дореформационного периода церковной истории соглашались в том, что христианское понимание взаимоотношений Творца и Его творения предполагает концепцию статичного и бесстрастного Бога, возвышающегося над изменчивым и страдающим миром[26].
Бесстрастие Бога и идеал монашеской жизни
Описанные выше атрибуты Бога находят соответствие в практике ранних христиан. На протяжении многих столетий идеалом христианской жизни и благочестия служило монашество[27], отличительными признаками которого были целибат, уединенная жизнь, созерцательность.
Созерцание (qewría) божественного предстает как идеал философской жизни еще у Платона, получив свое развитие во всей последующей традиции греко-римской философии. Созерцание, согласно традиционному определению, представляет собой процесс постепенного абстрагирования и удаления содержания сознания путем концентрации внимания на одной какой-нибудь господствующей идее или на одном объекте[28]. В христианском монашестве вся духовная жизнь ориентировалась на созерцание Бога, которое понималось как цель монашеского подвига[29]. Для достижения данной цели необходимо было бесстрастие души. В традиционной православной антропологии страсти связаны с движением[30]. Следовательно, созерцание – это неподвижность души, нерассеянность помыслов, сосредоточенность на Боге, а страсти – деструктивная подвижность, рассеянность, отсутствие концентрации. Как формулирует свой идеал Иоанн Лествичник, «бесстрастным называется и есть тот, кто плоть свою соделал нерастлеваемою страстями, ум возвысил превыше всякой твари, все чувства покорил уму, душу же свою представил лицу Господа, всегда простираясь к Нему, даже и выше сил своих»[31]. Такие составляющие монашеской практики (prâxiV), как уединенная жизнь, целибат и суровые условия жизни как раз преследует своей целью достижение «неподвижности», бесстрастия, являющегося в свою очередь необходимым условием для созерцания Бога. Очень удачно передал образ бесстрастного монаха Афанасий Великий в «Житии Антония Великого». Когда Антоний после длительного добровольного уединения встретил людей, «в душе его та же была опять чистота нрава; ни скорбью не был подавлен, ни пришел в восхищение от удовольствия, не предался ни смеху, ни грусти, не смутился, увидев толпу людей, не обрадовался, когда все стали его приветствовать, но пребыл равнодушным, потому что управлял им разум, и ничто не могло вывести его из обыкновенного естественного состояния»[32].
Конечно, свидетельство Писания о сострадающем Боге и учение о деятельной христианской любви оказывали значительное влияние на диаду «бесстрастный Бог – бесстрастный монах», заставляя раннюю церковь серьезно переосмысливать эллинистический идеал, но полностью преодолен он не был ни в догматическом богословии, ни в практике благочестия. Как пишет исследователь раннехристианского мистицизма П.М.Минин, подвижники древности на свое практическое служение в миру были склонны смотреть «как на некоторую уступку требованиям жизни, как на некоторое падение с тех высот чисто духовной жизни, на которые поднимает их созерцание»[33]. Антоний Великий образно сравнивал монаха в миру с рыбой, выброшенной на сушу: как она стремится в воду, так и монах в свою родную стихию – уединение и безмолвие[34].
Таким образом, в ранней церкви догматические положения и практика благочестия были связаны внутренней логикой и гармонировали друг с другом. Христианский подвижник, помня слова Писания: «подражайте Богу» (Еф. 5:1) и «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48) – стремился осуществить созерцательно-бесстрастный идеал в своей жизни. Образу бесстрастного и статичного Бога соответствовал образ бесстрастного и созерцательного анахорета.
Кризис созерцательного монашества в позднее средневековье
Первое серьезное переосмысление идеала «бесстрастный Бог – бесстрастный монах» произошло в области практической христианской жизни. В позднее средневековье в Западной Европе наблюдался растущий скептицизм относительно созерцательной монашеской жизни. Оживление крупной торговли, рост городов, демографический прогресс, появление специализации труда, ремесел – все это привело к большей социальной мобильности, изменению ментальности. Через активное участие в профессиональной деятельности человек осознавал себя индивидуумом, от активной позиции которого зависело его личное благополучие и преуспевание сообщества. Новые профессиональные категории – купцы, ремесленники, работники стремились найти в церкви оправдание своей деятельности, своего призвания, подтверждение своего достоинства, спасения не вопреки своей профессии, а с ее помощью[35]. Образ созерцательного монаха сменяется образом монаха трудящегося[36]. Появляется новый тип мистицизма, ставящий своей задачей не столько созерцание Бога, сколько соединение с Ним в Его воле, то есть носящий деятельный характер[37]. Некоторые исследователи называют такой тип мистицизма «городским», поскольку он не требовал полного уединения человека, позволяя ему совершать свой подвиг, оставаясь активным членом городской общины[38].
В полной мере кризис созерцательного идеала выразился в критике монашества как такового. Эразм Роттердамский, известный гуманист, описывает монахов как людей грубых, невежественных и бесстыдных, далеких от всякого благочестия[39]. Награда на небесах будет дарована «не за капюшоны, не за молитвы, не за воздержание от пищи, но только за дела милосердия»[40]. Здесь рисуется уже образец деятельного благочестия, которое предпочтительнее сугубо созерцательной жизни. В своем известном труде «Оружие христианского воина» Эразм неоднократно обращается к критике злоупотреблений, зачастую сопровождающих монашескую жизнь. Особенно резко он выступает против утверждений об исключительности монашеского призвания, «как будто без капюшона нет христианства»[41]. Цель христианской жизни, по Эразму, состоит не в созерцании и церковных богослужениях, а в том, чтобы «направлять заблуждающегося, научать незнающего, поднимать падшего, утешать удрученного, помогать страждущему, пособлять нуждающемуся»[42]. Мирянин, который любит Бога и ближнего, так же верен своему призванию, как и любой монах.
Лидеры Реформации, как правило, считали, что монашество не соответствует идеалу Евангелия, что монастырская жизнь лишена смысла и не имеет реальной ценности для общества. Везде, где побеждала Реформация, монастыри упразднялись. Лютер полагал, что каждый христианин в том состоянии, в котором он призван Богом, должен верно служить Ему. Особенно он подчеркивал, что светское призвание христианина не менее важно, чем церковное служение[43]. Жизнь христианина должна преследовать цель служения ближнему. Желание достичь спасения только для себя должно быть отвергнуто и осуждено[44].
В настоящий период времени даже представители христианских традиций, высоко оценивающих монашескую жизнь, осознают необходимость корректировки иноческого идеала. Лицом современного католического монашества, например, является мать Тереза Калькуттская, посвятившая свою жизнь деятельному служению ближним. Некоторые православные авторы также признают, что традиционное понимание иноческой созерцательной жизни как истинного христианства вступает в противоречие с классическим антропологическим утверждением о социальной природе человека. Более того, по словам исследователя православной мистической практики С.С. Хоружего, поиск путей разрешения данного противоречия должен рассматриваться как «важнейшая современная задача Традиции»[45].
«Страдание Бога» и «бесстрастие Бога» в протестантском богословии
Интересно отметить, что параллельно с переосмыслением созерцательного идеала в реформационной мысли мы можем обнаружить и некоторое переосмысление учения о Боге и страдании Бога во Христе. Особенно заметен здесь вклад Мартина Лютера, в частности его Theologia Crucis («Теология Креста»). В тезисах к Гейдельбергскому диспуту Лютер делает программные для всего своего богословия утверждения, противопоставляя «богословие славы» и «богословие креста». «Богословие славы» опирается на достижения человека и говорит о Боге в Его славе, величии, всемогуществе. «Богословие креста», напротив, говорит о скрытой, «обратной» стороне Бога, открытой на кресте, о Боге в Его уничижении и бесславии. Сторонник «богословия креста» приходит к Богу в сокрушении духа, уповая только на праведность Божию. Реформатор настаивает на том, что подлинным, спасительным познанием Бога может признаваться только «богословие креста». Именно на кресте Бог открывает Свою подлинную сущность. «Так как люди превратно использовали познание Бога через Его дела, Бог пожелал быть узнанным в страданиях… Посему недостаточно теперь и не принесет блага познание Бога в Его славе и величии, пока Он не будет познан в уничижении и позоре креста»[46]. Получается, что крест Христа говорит о Боге больше, нежели такие классические атрибуты, как всемогущество, всеведение, неизменность и бесстрастие. Во многих своих работах Лютер подчеркивает, что отправной точкой нашего богословия должно быть откровение Бога во Христе, ибо в Нем мы обретаем «волю и сердце Отца»[47]. Именно земная жизнь Иисуса Христа является нормативным критерием наших представлений о Боге: «сохрани в своем сердце человечество Христа, – пишет Лютер – и тогда воистину станет явной божественность»[48]. Немецкий реформатор считал недостаточным утверждение о том, что Христос является воплощением Бога и обладает божественной природой, так как это не обязательно нам говорит что-либо о характере Отца. «Воистину, Христос проповедует милостиво и замечательно, но кто знает, что Отец говорит на небесах?»[49]. Необходимо сказать о том, что жизнь Христа открывает нам личность самого Отца, Его намерения, Его подлинные чувства к нам. «Если я уверен, что все, что Он [Христос в земной жизни] думает, говорит и желает отражает волю Отца, тогда я могу не обращать внимания ни на кого, кто гневается или злится на меня»[50]. В учении об «общении свойств» во Христе, Лютер идет так далеко, что относит страдания Христа к Богу[51]. Однако в этом позиция Лютера не отличается последовательностью. К примеру, он также утверждает, что «Божество конечно же не может пострадать»[52] и что во Христе «только человеческая природа пострадала»[53]. Лютер, объясняя свою позицию, приводит в пример жертвоприношение Исаака. Как он пишет, в сознании и намерениях Авраама и его сына жертвоприношение как бы совершилась, в силу решения, хотя в действительности был заклан агнец. В этой истории Исаак служит прототипом божественной природы Христа, а агнец – человеческой. Таким образом, Сын Божий пострадал и умер по видимости, в действительности же пострадал и умер только человек в Нем[54]. Здесь мы опять остаемся с видимостью страданий Бога. Следует при этом отметить, что даже в данном примере, Бог предстает не как некий бесстрастный Абсолют, но как любящий нас Отец, являющий нам свое милосердие во Христе. Лютер, по-видимому, стремится разделить понятие о страдании как эмоциональном переживании и страдании как физической боли, хотя логика подобного деления представляется спорной.
Следующее поколение реформаторов, к сожалению, пожертвовало парадоксальными мыслями Лютера о страдающем Боге в пользу более традиционных формулировок божественных атрибутов.
Для Кальвина отправной точкой богословия является утверждение о Боге как суверенном Правителе, следовательно, о Его могуществе и славе, другими словами, то самое «богословие славы», которое так настойчиво изобличал Лютер. Не разделяет Кальвин и учения Лютера о communicatio idiomatum. Он, конечно, признает единство личности Христа, но решительно настаивает на том, что божественная и человеческая природы не перенимают друг у друга присущие им характеристики[55]. «Когда говорят, что Господь славы был распят (1 Кор. 2:8), это, разумеется, не означает, что Он страдал в своем божественном естестве»[56], потому что «Бог не может страдать»[57]. Пытаясь развить свою логику, швейцарский реформатор представляет учение, получившее позднее название extra calvinisticum, согласно которому Сын Божий пребывал на Небе и на земле одновременно, по плоти находился на земле и в то же время оставался по божеству на небесах[58]. «Он чудесным образом вошел в чрево Девы, явился в мир и был распят, – но в то же время его божественность как и прежде наполняла мир»[59]. Таким образом, парадокс «распятого Бога» снимается сам собой.
Утверждение о бесстрастии Бога содержится в известных протестантских доктринальных документах. Вестминстерское исповедание веры заявляет, что «Бог не подвержен страстям»[60]. То же говорится и в Баптистском вероисповедании 1689 года[61].
Нерешенность вопроса об «общении свойств» во Христе в богословии Реформаторов привела к так называемому «кенотическому спору» (от греч. kenów - «опустошать», «уничижать», kénwsiV - «уничижение»; Флп. 2:7) XVI - XVII вв., сначала между Хемницем и Бренцем, а затем между Гиссенской и Тюбингенской школами. Представители обеих школ признавали причастность человеческой природы Христа вездесущию, всеведению и всесилию Бога. Согласно представителям Гиссенской школы вочеловечившийся Спаситель отказывается от пользования этими атрибутами; представители же Тюбингенской школы утверждали, что Он лишь не демонстрировал эти атрибуты, а скрывал их существование[62]. Несмотря на существующие разногласия, обращает на себя внимания тот факт, что сторонники обеих школ исходят в своей аргументации из статичного понимания о Боге, при котором Его атрибуты являются раз и навсегда определенными. При этом божественные атрибуты никоим образом не совместимы с образом страдающего и уничиженного Христа, так что приходится объяснять земную жизнь Сына Божия в категориях «отказа» от божественных атрибутов, либо «сокрытия» их. Таким образом, воспроизводится схема, характерная практически для всей классической христологии: богослов, рассуждая о тайне боговоплощения, исходит из того, что он уже знает качества Бога – всемогущество, всеведение, вездесущие, бесстрастие и т.д., а уже затем пытается эти качества как-то соотнести с земной жизнью Христа и Его крестом. И действительно, при таком подходе соотнести божество Христа и Его «кенозис» представляется очень сложной задачей.
Понятие о бесстрастном, статичном Боге сохраняется в консервативном протестантском богословии вплоть до XX в. Особенно в этом вопросе оказал влияние классический труд Стефена Чарнока «Размышления о бытии и атрибутах Бога». Чарнок, следуя схоластическому богословию, говорит о Боге в Его сущности (неизменный, трансцендентный, непостижимый, абсолютный) и Боге в Его откровении нам (имманентный, страдающий, изменяющийся). Причем, сущностным атрибутам Бога отдается приоритет в толковании Писания. Те отрывки из Библии, которые говорят о Боге в категориях трансцендентности и неизменности, почитаются как адекватно описывающие природу Бога, а те, которые подразумевают, что Бог переживает эмоции, страдания или изменения – как антропоморфизмы[63]. Подобный «двухуровневый» подход к толкованию Писания встречается в работах многих известных протестантских богословов и в стандартных библейских комментариях[64]. В отношении communicatio idiomatum, распространенной остается позиция, согласно которой страдания Христа, Его нужду и скорби следует относить к ипостаси Сына Божия, но не к божественной природе[65].
Схоластический приоритет «Бога-в-Его-сущности» над «Богом-как-Он-открылся-нам» обнаруживается также в структуре трудов по систематическому богословию. Обычно вначале идет речь о естестве Божием и «Боге вообще». Только затем говорится о Боге в Его откровении нам. Другими словами, вначале говорится о том, что есть Бог, а затем кто есть Бог[66]. Конечно же, все, что говорится в Писании о сострадании и деяниях Бога, подпадает под вторую категорию.
Выше мы уже говорили о том, что в позднее Средневековье и особенно в Реформационном движении произошло переосмысление идеала созерцательного монашеского христианства в пользу более деятельной, активной модели христианской жизни. Однако первая часть формулировки «бесстрастный Бог – бесстрастный монах» в значительной мере сохранила свои позиции в протестантском богословии, так что получилась достаточно противоречивая диада «бесстрастный Бог – деятельный, сострадательный христианин». Образ Бога, как он оставался в консервативном протестантском систематическом богословии, и образ христианской жизни перестали гармонично соотноситься друг с другом. Более того, образ Бога в догматике стал все больше расходиться с тем представлением о Боге, которое под воздействием библейских текстов складывалось в евангельском практическом, духовно-нравственном богословии. В результате догматическое богословие в церковном сознании все больше ассоциировалось с какой-то сухой безжизненной научной дисциплиной, не имеющей прямой связи с христианским благочестием.
Помимо внутренней потребности переосмысления классических атрибутов Бога в христианском систематическом богословии можно назвать еще некоторые обстоятельства, сопутствующие этому.
В 1883 году было начато веймарское издание произведений Мартина Лютера, посвященное 400-летней годовщине со дня его рождения. Возникшая в результате этого издания доступность трудов Лютера привела к возрождению его научных взглядов, что привело к оживлению интереса ко многим идеям немецкого реформатора, особенно к «богословию креста».
Большое влияние на богословие оказала исследовательская программа Адольфа фон Гарнака, изложенная им в фундаментальном труде «История догмы». Основная мысль Гарнака состояла в том, что изначально простая весть Христа была искажена в позднейшем христианстве под воздействием чуждых ему эллинистических идей. Таким образом, Гарнак открыл дверь критическому переосмыслению святоотеческого богословия, в том числе было отмечено, что идея бесстрастия Бога обязана своему происхождению греческой философии.
Экзистенциальная философия, зародившаяся в конце XIX в., с новой остротой поставила вопросы смысла человеческого существования. Абстрактные истины, доктрины, догматы, в том числе о Боге, не имеющие личного, жизненного значения, оставляются как бесполезные[67]. Иван Карамазов в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» оценивает слезинку ребенка выше мировой гармонии и в своем рассказе «Великий Инквизитор» отдает предпочтение молчаливому и как бы бессильному Христу, страдающему ради нашей свободы, перед Инквизитором, выступающим с позиции «разумности» и власти[68]. Всемогущий и бесстрастный Бог выглядит на фоне таких рассуждений как отчужденное или даже враждебное существо[69].
Ужасы Первой и Второй мировой войн, как и другие социально-политические потрясения XXв., также оказали глубокое воздействие на богословскую мысль. Для многих людей образ Бога, Который стоит выше страданий и боли мира, стал нравственно неприемлемым. По мнению многих еврейских мыслителей, разговор о Боге после Освенцима может быть морально оправдан, только если мы признаем, что Бог разделяет страдания Своего народа[70].
Итак, мы видим, что различные внутренние и внешние причины побуждали христианское богословие к серьезному переосмыслению классических атрибутов Бога. Новые подходы, формулировки, категории вырабатывались как в области библейского, так и догматического богословия.
«Патос» Бога и крест Христа в современном библейском богословии
В области библейского богословия большую роль сыграли новые исследования Ветхого Завета, в частности работы Авраама Хешеля, в которых он развивает концепцию «патоса» (pathos) Бога. Он указывает на то, что пророки в своем описании Бога исходили не из абстрактной «идеи» Бога, а из деяний, проявлений Господа в истории Израиля. Они говорили, скорее, об отношении Бога, а не об идеях о Боге. С точки зрения пророков Бог открыл Себя не в абстрактной абсолютности, а в личном и интимном отношении к миру. Он не просто повелевает и ожидает послушания, но и отвечает действием на события истории. Хешель пишет о том, что поступки людей воздействует на Бога, пробуждая в Нем или гнев, или удовлетворение. Бог обладает не только разумом и волей, но также «патосом», действенным участием в судьбе Своего народа.
«Патос» Бога не должен пониматься как сущностный атрибут, как нечто объективное, но как выражение Божественной воли; он носит скорее функциональный, нежели сущностный характер. «Патос» не является при этом страстью, необузданной эмоцией, но действием, укорененным в характере Боге, в Его решении. «Патос» означает, что Бог не является сторонним, нейтральным наблюдателем: Он всегда на стороне справедливости. Как пишет Хешель, «патос» Бога «является подлинной основой взаимоотношений Бога и человека, взаимодействия Творца и творения, диалога между Святым Израиля и Его народом»[71]. Таким образом, Бог пророков противопоставляется бесстрастному Богу философов.
Современные библеисты обращают внимание на то, что основным средством описания Бога в Ветхом Завете являются глаголы. В своем свидетельстве о Боге Израиль концентрировал внимание прежде всего не на Божьей природе, сущности или атрибутах, а на конкретных деяниях Господа[72]. Бог – это Тот, Кто сотворил небо и землю (Ис. 42:5-6; Быт. 1-2), Кто даровал Свои обетования Израилю (Быт. 22:16-18; 28:13-15), Кто избавляет Свой народ (Исх. 6:6; Пс. 105:10), Кто повелевает (Исх. 34:11; Втор. 12-25), Кто ведет Израиль (Втор. 8:2-3; Пс. 22:2-5).
Бог во взаимоотношениях со Своим творением и Израилем полностью свободен и страстно преданнодновременно[73]. Бог полностью свободен и суверенен в Своих решениях. Его обетования о защите, верности и помощи не являются вынужденными. Он ничем не связан и волен поступать, только исходя из Своих намерений. Бог может расторгнуть отношения и отменить Свои обещания и, без сомнения, будет прав в этом. В еврейской традиции засвидетельствованы примеры этого. «Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» (Плач 5:20-22). Божья суверенность позволяет, и даже требует подобных мер, призванных утвердить славу, святость и ревность Господа.
В повествованиях Израиля странным выглядит не то, что Бог может оставить Свой народ за грехи, но то, что Бог не придает этим мерам необратимый характер. То, что выглядело как полная оставленность, произошло на самом деле «на малое время»: «На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь» (Ис. 54:7-8). Израиль пережил в вавилонском плену оставление на время. Израиль выжил, но не благодаря своей собственной силе, устойчивости, но потому что в пленении страстная преданность Господа Своему завету только возросла и усилилась. Господь не оставил Израиль в Своей суверенности, как намеревался сделать.
Причина, по которой Господь не оставил Свой народ, находится не в самом Израиле и не в каких-либо внешних обстоятельствах, а в характере Самого Бога. Господь отказался поступать, исходя из Своей суверенности, потому что, как пишет Вальтер Бруггеманн, «обнаружил в Своем внутреннем бытии глубину посвящения благополучию Израиля»[74].
Не случайно, поэтому, что пророки, стремясь передать этот аспект личности Бога, используют метафоры взаимоотношений между мужем и женой, родителем и ребенком. Только подобные образы могут передать глубокие эмоциональные переживания – как положительные, так и отрицательные.
Так, после гневного отвержения в Ос. 2:10-13 страдающий муж говорит: «Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее... И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа» (Ос. 2:14; 19-20).
И после гневных слов оскорбленного родителя (Ос. 11:4-7) тональность пророчества меняется, и мы слышим любящий голос пережившего утрату отца: «Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя! Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не человек; среди тебя Святый; Я не войду в город» (Ос. 11:8-9).
Описание родительского сострадания мы видим также у Исаии: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих]; стены твои всегда предо Мною» (Ис. 49:15-16); «Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме» (Ис. 66:13).
В Книге пророка Иеремии, негодующий, униженный муж обращается к закону о разводе (Втор. 24:1). Но затем страдающий супруг говорит следующее: «… возвратись, отступница, [дочь] Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, - не вечно буду негодовать» (Иер. 3:12).
В Иер. 30:12-13 выносится вердикт, что рана Израиля неизлечима. Но затем Целитель говорит: «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря: "вот Сион, о котором никто не спрашивает"» (Иер. 30:17).
Может быть наиболее эмоционально насыщенное описание любви Господа мы находим в Иер. 31:20: «Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем; внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь над ним, говорит Господь». О любимом чаде постоянно помнится, даже если перед этим звучали суровые слова отвержения. Господь огорчен, как и в Ос. 11:8, но все равно «умилосердится». Господь оставит все резонные причины для отвержения и поступит милосердно. «Судья-царь говорит уже как мать-отец, который в данный момент осознает, что взаимоотношения значат для него больше чем чувство собственного достоинства, и что суверенность определяется состраданием»[75].
Исследования Нового Завета также внесли заметный вклад в новый взгляд на атрибуты Бога. Ученые обратили внимание, что для авторов Нового Завета определяющую роль в рассуждениях о Боге играет откровение Бога во Христе. «И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тим. 3:16). Во Христе мы обладаем «всей полнотой Бога» (Кол. 2:9).
Во Христе Бог изобразил Себя, явил нам Свой образ. Об этом Павел пишет неоднократно. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2Кор. 4:3-4). В Послании к Колоссянам в величественном гимне Павел также воспевает Христа, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Кол.1:15). Здесь об Иисусе Христе говорится уже не только в рамках Его земного служения, но в контексте всего творения, «ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано» (Кол.1:16).
Евангелист Иоанн высказывает схожее суждение: «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин.1:18). Иисус есть Слово, бывшее от вечности с Отцом, через Которое Бог творил, а ныне явившееся во плоти (Ин. 1:1-14).
Таким образом, для новозаветных авторов Божия созидательная и спасительная активность, Его существо нашли наиболее адекватное и полное выражение в личности и миссии Христа. Во Христе Бог «сообщает» Себя миру, точнее Божие «сообщение», имеющее начало от сотворения мира, в Иисусе обретает свою совершенность[76].
Когда мы говорим о том, что Иисус открыл нам Бога, следует помнить, что кульминацией Его земного пути стал крест. Утверждение о божественности Христа говорит не только о том, что Сын Божий превознесен и достоин поклонения и славы, но также и о том, что Бог был умален и пострадал ради нас[77]. С особенной четкостью апостол Павел выразил эту мысль в христологическом гимне, записанном в Послании к Филиппийцам:
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца»(Флп. 2:6-11)
В этом гимне отражено одно из величайших исповеданий ранней церкви. Иисус действительно есть образ Божий, Предвечный Сын. Однако Он не возгордился Своим богоравенством, но, напротив, раскрыл его подлинный смысл: стал человеком и в согласии со спасительным Божьим замыслом принял смерть за грехи мира. Поэтому основным богословским посылом гимна является не просто новый взгляд на Иисуса. Гимн открывает нам новое представление о Боге. Вопреки древним попыткам человечества сотворить Бога по собственному (надменному, горделивому) образу, Голгофа открывает истину о том, что значит быть Богом[78]. Как пишет об этом известный исследователь Нового Завета Н.Т. Райт, «значение этого вывода нельзя умалить в настоящих христологических дебатах: воплощение и даже распятие должны восприниматься как подходящие средства для динамического самооткровения Бога»[79]. Божественность Христа становится наиболее очевидной не когда Он исцеляет больных или изгоняет бесов, а когда Он умирает на кресте, разделяя и неся тяжесть мирового зла и боли[80]. Следовательно, страдания Христа не являются чем-то несовместимым с природой Бога, но, напротив – открывают нам божественную сущность полнее чем что-либо.
Учение о страдании Бога во Христе в современном богословии
Значительный вклад в переосмысление доктрины о бесстрастии Божием внесли русские религиозные мыслители и богословы конца XIX – XX вв., прежде всего Владимир Соловьев, Михаил Тареев, о. Сергий Булгаков, Николай Бердяев. Та же проблематика в несколько ином контексте обсуждалась и западными католическими и протестантскими богословами, такими как Карл Барт, Карл Ранер, Г.У. фон Бальтазар, Вальтер Каспер, Юрген Мольтман и некоторыми другими.
В своей основной христологической работе «Агнец Божий» о. Сергий Булгаков предлагает в рассуждениях о сущности Христа начинать не с общих утверждений о том, что есть божественная природа и что есть человеческая природа и могут ли они соединяться, а с однозначного свидетельства Евангелия: «и Слово стало плотью» (Ин. 1:14). Следовательно, мы имеем дело с данностью боговоплощения и, отталкиваясь от этой данности, этого факта, следует делать богословские заключения[81]. Другими словами, мы не должны подходить к тайне воплощения с мнимым априорным знанием о том, каков Бог, и затем пытаться примирить эти наши представления с евангельским повествованием о Христе. Напротив, именно Иисус открывает нам, кто же есть Бог и какой Он. Как выразил эту мысль Карл Барт: «Если Он есть Слово Истины, то истина о Боге есть именно это и ничто другое»[82].
При этом, как отмечает Карл Ранер, правильнее говорить о Христе не только как о воплощении второй божественной ипостаси Слова, как если бы другие ипостаси тоже могли воплотиться, а об откровении Бога вообще[83]. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, то постигаем не только природу Логоса, но природу Бога Отца. Казалось бы, мысль эта банальна и не требует повторения, однако она имеет большое значение для практического богословия: «На самом ли деле Бог похож на Иисуса?» Неправильно воспринятое учение о Троице зачастую ведет к разделению в сознании образа Бога Отца и Иисуса Христа. Бог Отец воспринимается как некий далекий, непостижимый Абсолют, строгий и суровый Судья. Любовь Христа, конечно, дарит утешение, но нам предстоит предстать на суд пред Богом. «Все иначе, когда лицо Иисуса идентично лицу Бога, когда прощение грехов является воистину прощением, ибо было обетовано через искупительную жертву Бога во Христе Иисусе, и когда совершенная любовь Божия, воплощенная в Нем, рассеивает все наши страхи»[84].
Другим важным положением христологической мысли Сергия Булгакова является утверждение о «единстве жизни» Богочеловека[85]. Человечество во Христе не является лишь «завесой» или «орудием» Божества, а становится фактом Его собственной внутренней богочеловеческой жизни[86]. Бердяев говорит еще радикальнее: человеческая природа Христа, не скрывает, а, напротив, открывает Бога. В свойственной ему парадоксальной манере, он заявляет: «Бог раскрывается как Человечность»[87]. В связи с этим неизбежно встает вопрос о том, подразумевает ли «единство жизни» Богочеловека соучастие Бога в страданиях Христа. Ответ Булгакова недвусмысленен: «Бог воплотившийся был распят и страдал на кресте. Поэтому нельзя говорить о бесстрастии Божества в Богочеловеке»[88]. И опять же, страдание Христа не есть страдание только ипостаси Сына, но всей Троицы[89]. Тот факт, что Иисус Христос есть откровение Бога, означает, что Отец действенно и личностно присутствовал в распятии Христа. Отдавая Своего возлюбленного Сына как искупительную жертву за наши грехи, Бог отдал Самого Себя нам в искренней любви, поэтому крест является не только откровением любви Христа, но и откровением любви Божией. Как пишет современный евангельский богослов Т.Ф. Торренс, «крест есть окно в самое сердце Бога»[90].
И снова, если мы берем за отправную точку наших рассуждений о Боге не метафизические конструкции, а событие боговоплощения, то можем утверждать, что участие Бога в нашем страдании есть не то, что Бог усваивает через человеческую природу Христа, а то, что Бог открывает через человечество Иисуса. Человечество Иисуса Христа не скрывает Бога от нас, а открывает Его, на Голгофе Бог не скрыт от нас, а наоборот, открывает Свою подлинную сущность: «Бог есть Бог, страдающий с миром и человеком, распятая Любовь»[91]. Японский богослов Казо Китамори вообще утверждает, что страдания Бога – это основной смысл христианского Евангелия. Бог страдает, прощая грешников заслуживающих наказания. Богу доставляют человеческие страдания – голод, жажда, страх, отверженность и муки исторического Иисуса на кресте. Бог Отец страдает, когда Он позволяет возлюбленному Сыну страдать и умирать на кресте. Так же, по мнению Китамори, Бог становится имманентным исторической реальности человеческих страданий. Последняя проповедь Иисуса (Мф. 25:31-46) являет Его идентичность с теми, кто страдает от голода, жажды, слабости, тюремного заключения: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»[92]. Булгаков называет кенозис общим принципом отношения Бога к миру: уже в акте творения мы видим самоумаление Бога, всякое общение Бога с нами есть умаление, уничижение с Его стороны, однако во Христе кенозис Бога находит самое радикальное выражение[93].
Важно сказать, что способность Бога к страданию не входит в противоречие со всемогуществом Божиим, как раз самоумаление Бога во Христе доказывает полноту Его власти. Приписывать Богу невозможность страдания означает отрицать Его всемогущество, ограничивать Его свободу некой «божественной природой»[94]. «Божественность Бога не является тюрьмой, в которой Он может существовать только в Себе и для Себя»[95]. По словам Юргена Мольмана, Бог, который не может страдать, оказывается беднее, чем человек[96]. Конечно, страдание Бога не является необходимостью, как пишет Вальтер Каспер, «не страдание постигает Бога, а Он в акте свободы позволяет страданию постигнуть Его»[97].
Таким образом, Иисус Христос в Его человечности, в Его жизни и смерти есть «самоистолкование Бога»[98]. Вновь обратимся к замечательным афоризмам Бердяева: «Человечность и есть главное свойство Бога, совсем не всемогущество, не всеведение и пр., а человечность, свобода, любовь, жертвенность»[99]. Парадоксальным образом величие и всемогущество Бога открывается самым полным образом в Его умалении и страдании. «Мы проповедуем Христа распятого… Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор. 1:23-24).
Страдающий Бог и христианская этика
Образ сострадающего и любящего Бога требует соответствующего образа веры. Бог Библии не является неподвижным Абсолютом, ожидающим лишь созерцания, Он находится в движении, в миссии. Кенозис Христа открывает направление движения Бога: Его самоотдача творению ради спасения мира[100]. Призвание христианина – это соучастие в миссии Господа (Мф. 28:19-20). Это не означает, что в христианской жизни нет места созерцательной молитве и размышлению. Но, желая созерцать Бога, мы обращаемся ко Христу, потому что «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). А во Христе мы видим Бога, «действующего любовью». Поэтому можно утверждать, что наиболее глубокой формой христианского созерцания, является созерцание действием.
Самоумаление Бога во Христе является также парадигмой христианского отношения к личной власти и положению в обществе: «кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 20:26). Интересно отметить, что великий христологический гимн в Флп. 2:6-11 был написан, чтобы мы имели «те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). Образ Христа, добровольно отказавшегося от своей власти и положения, апостол Павел использует, чтобы показать принципы взаимоотношений между служителями церкви.
Сострадание Бога нам, соучастие Его в нашей судьбе, даже в наших страданиях, делает равнодушие невозможным выбором для христианина. Бог не является бесстрастным арбитром, стоящим «над схваткой». Он на стороне страждущих, Он есть «Отец сирот и судья вдов» (Пс. 67:6), поэтому «чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира (Иак. 1:27). Неравнодушие является, пожалуй, главной темой притчи о добром самарянине (Лк. 10:30-37) и притчи об овцах и козлах (Мф. 25:31-46). Как пишет Юрген Мольтман, в ситуации «патоса» Бога человек становится homo sympatheticus – «человеком сочуствующим»[101].
Страдание Бога в мире также открывает судьбу Его Церкви. Мир в его нынешнем состоянии распинает Христа. Поэтому всякий, кто пожелает следовать пути Христа, с неизбежностью оказывается тем, кто «не от мира» и тем, кто гоним (Ин. 15:19-21). «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:13-14).
Образ распятого Христа имеет еще одно важное значение для практической жизни христианина. На кресте Бог доказывает Свою любовь к нам самым совершенным образом: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:32). Тем самым основанием христианской этики полагается не чувство страха или вины, не желание достичь добрыми делами расположения гневного Бога, а благодарность и ответная любовь к Богу. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией (Рим. 5:1-2).
Заключение
Изучение взаимосвязи представлений о Боге и христианской этики на примере доктрины о бесстрастии Бога показывает, что области систематического богословия и практической христианской жизни в значительной мере взаимно влияют друг на друга. Следует сделать оговорку, что взаимовлияние это не всегда непосредственно. Мы всегда можем найти примеры в христианской истории, когда люди, исповедовавшие учение о бесстрастии Божием, вели деятельную сострадательную христианскую жизнь, и, наоборот, те, которые учили о сострадательном, вовлеченном в жизнь человечества Боге, жили эгоистично и пассивно. Точно так же можно вспомнить о христианах, ведущих нехристианский образ жизни и об атеистах, на деле являющих христианские ценности. Но, изучая историю данного вопроса, можно говорить о том, что образ Бога задает направление развитию этических идеалов верующего человека. Как было показано выше, доминирующим типом христианского благочестия, в то время когда доктрина бесстрастия Божия имела общее признание, было созерцательное монашество. С другой стороны, как мы видели на примере послереформационного богословия, христианский опыт и практическое богословие способны оказывать обратное влияние на систематическое богословие, побуждая христианских богословов переосмысливать существующие положения догматики. Плодотворная ситуация складывается тогда, когда образ Бога и идеал христианской жизни находятся в соответствии.
Свидетельство Священного Писания, христианский опыт, богословская мысль в современном ее состоянии убеждают нас, что мы имеем дело не с бесстрастным Абсолютом, а с личностным Богом, Который в Своей любви настолько пожелал быть вовлеченным в нашу жизнь, что в Сыне Своем разделил нашу участь до смерти на кресте, дабы мы могли разделить с Ним Его благодатную жизнь. Образу бесстрастного Бога соответствует созерцательная монашеская жизнь. Образ же сострадающего Бога побуждает нас к деятельному участию в жизни нуждающихся, пониманию власти как служения и уверяет нас в том, что благодати Божией достаточно, чтобы простить наш грех и преобразить наши жизни.
________________________________________
[1] Louth A. The Origins of the Christian Mystical Tradition from Plato to Denys. Oxford: Clarendon Press, 1981, p. xiii.
[2] Pelikan J. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. Vol. 1. The Emergence of the Catholic Tradition (100-600). Chicago: The University of Chicago Press, 1971, p. 51.
[3] Аристотель. Физика VIII ч., с. 5.
[4] Шпидлик Ф. Духовная традиция восточного христианства. Систематическое изложение. - М.: Паолине, 2000, с. 309.
[5] Pelikan J. The Christian Tradition, p.52.
[6] Строматы VII, 88, 4.
[7] О началах II, 4, 4.
[8] К Феопомпу о возможности и невозможности страданий для Бога X.
[9] О мистическом богословии IV.
[10] Точное изложение православной веры I, 14.
[11] Pelikan J. The Christian Tradition, p.54.
[12] К Феопомпу о возможности и невозможности страданий для Бога X.
[13] К Феопомпу о возможности и невозможности страданий для Бога XII.
[14] Ср.: Булгаков С. Агнец Божий. О Богочеловечестве. Часть 1. М.: Общедоступный православный университет, 2000, с. 104.
[15] Слово 29:24.
[16] Мейендорф И. Иисус Христос в восточном православном богословии.- М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. 2000, с. 79.
[17] Толкование на Евангелие от Иоанна XI, 9, Ин. 17:11.
[18] Точное изложение православной веры III, 3.
[19] Точное изложение православной веры III, 3; III, 26.
[20] Точное изложение православной веры III, 26.
[21] Ср. Равен. Аполлинарианизм: «Из всей литературы эпохи патристики ясно видно, какие серьезные затруднения испытывали ее авторы от недостатка абстрактных терминов и пристрастия к конкретному и материалистическому мышлению. Вместо того чтобы постигать Бога в терминах любви, в терминах, соответствующих личности, они сосредоточились на субстанциях, на образах их взаимодействия, подобно сплавлению металлов, смешению жидкостей или гибриду животных, образах слишком грубых, чтобы правильно описать тончайшие жизненные отношения. Это зачастую приводит к тому, что все их истолкование религиозного опыта кажется искусственным». Цит. по: Булгаков С. Агнец Божий, прим. к с. 31.
[22] Прослогион VIII.
[23] Почему Бог стал человеком I: 8.
[24] Сумма теологии XXI, 3.
[25] Там же.
[26] Pelikan J. The Christian Tradition, p.53.
[27] Мейендорф Иоанн, прот. История церкви и восточно-христианская мистика. - Москва: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2000, с. 72.
[28] Минин П.М. Мистицизм и его природа. - Киев: Пролог, 2003, с. 28-29.
[29] Шпидлик Ф. Указ. сочинения, с. 380; Минин П.М. Мистицизм и его природа. с. 28.
[30] Добротолюбие 1:574.
[31] Добротолюбие, 2:552.
[32] Житие Антония Великого, написанное Афанасием Александрийским // Символ. Декабрь 1982, с. 8, с. 56.
[33] Минин П.М. Мистицизм и его природа., стр. 28.
[34] Изречения святого Антония Великого и сказания о нем. С. 36.
[35] Ле Гофф Ж. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002, с. 102; Гуревич А. Избранные труды. Том 2. Средневековый мир. М. – СПб: Университетская книга, 1994, с. 211.
[36] Там же, с. 102.
[37] Oberman H. A. The Reformation: roots and ramifications. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1994, p. 85.
[38] Ibid., p. 85.
[39] Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя.- М.: Мысль, 2001, с. 198.
[40] Там же, с. 199.
[41] Эразм Роттердамский Философские произведения. – М.: Наука, 1987, с. 216.
[42] Там же, стр. 157.
[43] Althaus P. The Ethics of Martin Luther. Philadelphia: Fortress Press, 1972, p. 39.
[44] Ibid., p. 23.
[45] Хоружий С.С. О старом и новом. – СПб.: Алетейя, 2000, с. 240.
[46] Цит. По: Althaus P. The Theology of Martin Luther. Philadelphia: Fortress Press, 1966, p. 26.
[47] Luther’s Works. Vol. 24. Sermons on the Gospel of St. John. Chapters 14-16. Pelikan J., editor. Saint Louis: Concordia Publishing House, 1961, p.141.
[48] Luther’s Works. Vol. 23. Sermons on the Gospel of St. John. Chapters 6-8. Pelikan J., editor. Saint Louis: Concordia Publishing House, 1959, p. 102.
[49] Luther’s Works. Vol. 24, p. 165.
[50] Ibid., p.141.
[51] «То что Христос пострадал должно быть также отнесено к Богу, ибо они одно». Цит. по Althaus P. The Theology of Martin Luther, p. 197.
[52] What Luther Said. An anthology. Compiled by Plass E.M.Vol. 1. Saint Louis: Concordia Publishing House, 1972, p. 170.
[53] What Luther Said, p. 193.
[54] What Luther Said, pp. 193-194.
[55] Наставление в христианской вере II, 14.
[56] Наставление в христианской вере IV, 17, 30.
[57] Наставление в христианской вере II, 14, 2.
[58] Наставление в христианской вере IV, 17, 30.
[59] Наставление в христианской вере II, 13, 5.
[60] Вестминстерское исповедание веры II.
[61] Баптистское вероисповедание 1689 года II.
[62] Каспер В. Бог Иисуса Христа. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005, с. 253 – 2 54.
[63] См., например, Charnock S. Discourses upon the existence and attributes of God. 2 vols.Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1979, 1: 340-342.
[64] Pinnock C.H. The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1994, p.95.
[65] Strong A.H. Systematic Theology. 3 vols. Philadelphia: The Griffith and Rowland Press, 1907-1909, 2: 697; Hodge C. Systematic Theology. 3 vols. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1940-1946, 2:393.
[66] Ср. Torrance T.F. The Meditation of Christ. Colorado Springs: Helmes and Howard Publishers Inc., 1998, p. 100; Webber O. 1981. Foundation of Dogmatics. 2 vols. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1981, 1:397.
[67] Ср. Бердяев Н.А.: «Понятие Абсолютного есть крайний предел объективирующей отвлеченной мысли. В Абсолютном нет уже никаких признаков существования, никаких признаков жизни… Отвлеченное Абсолютное разделяет судьбу отвлеченного бытия, которое ничем не отличается от небытия. Абсолютному нельзя молиться, с ним невозможна драматическая встреча. Абсолютным мы называем то, что не имеет отношения к другому и не нуждается в другом». В кн.:Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. // Царство Духа и царство Кесаря. Сост. Алексеев П.В. М.: Республика, 1995, с. 50.
[68] Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть 2, Книга пятая. Pro и contra. IV и V главы.
[69] Как пишет об этом радикальный азиатский богослов Чунг Хьюн Кьюнг: «Я знаю и то, что больше не верю во всемогущего бога-воителя, который спасает хороших парней и наказывает плохих. Я скорее полагаюсь не сострадательного Бога, который вместе с нами оплакивает эту жизнь посреди ее жестокого уничтожения». (Чунг Хьюн Кьюнг. Приди, Святой Дух, - обнови все творение. Седьмая ассамблея ВСЦ, Канабера, 1991 // Экуменическое движение. Антология ключевых текстов. Сост. Киннемон М. и Коуп Б. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002, с. 269.
[70] Протоиерей Сергий (Гаккель). Значение слова «MARTUS» // Богословие после Освенцима и ГУЛАГа и отношение к евреям и иудаизму в Православной Церкви большевистской России. Материалы международной научной конференции 26 – 29 января 1997 года. - СПб, с. 156.
[71] Heschel A.J. The Prophets. Vol.2. New York, NY: Harper & Raw, Publishers, 1962, p. 11.
[72] Brueggemann W. Theology of the Old Testament. Minneapolis: Fortress Press, 1997, p. 145.
[73] Ibid., p. 410.
[74] Ibid., p. 299.
[75] Ibid., p. 301.
[76] Cullman O. Prayer in the New Testament. Minneapolis: Fortress Press, 1995, p. 128.
[77] Bauckham R. God Crucified: Monotheism and Christology in the New Testament. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1998, p. 46.
[78] Райт Н.Т. Что на самом деле сказал апостол Павел. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004, с. 68.
[79] Цит. по Where Christology began: essays on Philippians 2. Martin R.P. and Dodd J., editors. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1998, pp. 104-105.
[80] Wright T. The Original Jesus.Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1996, p. 82.
[81] Булгаков С. Агнец Божий. стр. 248-249.
[82] Barth K. The Humanity of God. Richmond: John Knox Press, 1960, p. 49.
[83] A Rahner Reader. Ed. by McCool G.A. New York, NY: The Crossroad Publishing Company, 1987, p. 140.
[84] Torrance, pp. 59-60.
[85] Булгаков С. Агнец Божий. с. 248.
[86] Там же, с. 282-283.
[87] Бердяев, с. 51.
[88] Булгаков С. Агнец Божий, с. 283.
[89] «Нельзя допустить «бесстрастного», т.е. безучастного отношения к страсти Христовой со стороны невоплощающихся ипостасей , и прежде всего Отца, пославшего в мир единородного Сына Своего и по воле Своей определившего Его испить смертную чашу». - Там же, с. 286.
[90] Torrance, p.109.
[91] Бердяев, с. 51.
[92] Теология страданий Бога // Теологический энциклопедический словарь. /Под. ред. У. Элуэла М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2003, с. 1201-1202.
[93] Булгаков С. Агнец Божий . с. 251.
[94] Там же, стр. 249.
[95] Barth, p. 49.
[96] Moltmann J. The Crucified God. New York, NY: Harper & Raw, Publishers, 1974, p. 222.
[97] Каспер, с. 258.
[98] Каспер, с. 251.
[99] Бердяев, с. 51.
[100] Gawronski Raymond, S.J. Word and Silence: Hans Urs von Balthasar and the Spiritual Encounter between East and West. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995, p. 79.
[101] Moltmann, p. 272.